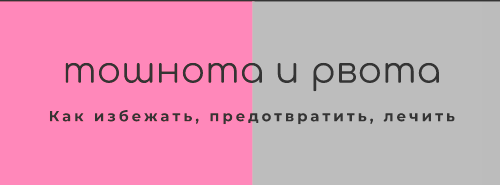Доступ к миру художественного остается за теми кого немножко тошнит

Óýëüáåê Ìèøåëü
Àôîðèçìû, öèòàòû, âûñêàçûâàíèÿ, ôðàçû
Ñ÷àñòüÿ áîÿòüñÿ íå íàäî: åãî íåò.
Îäèíî÷åñòâî âäâî¸ì äîáðîâîëüíûé àä.
Ñåêñóàëüíîñòü îäíà èç ñèñòåì ñîöèàëüíîé èåðàðõèè.
 æèçíè ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ðàçíîå, íî ÷àùå âñåãî íå ñëó÷àåòñÿ íè÷åãî.
̸ðòâûé ïîýò ïèñàòü íå ìîæåò, îòñþäà íåîáõîäèìîñòü îñòàâàòüñÿ æèâûì.
×òî áû òàì íè áûëî, ëþáîâü ñóùåñòâóåò, ðàç ìû ìîæåì âèäåòü å¸ ïîñëåäñòâèÿ.
Íåóäà÷à, ïîâñþäó íåóäà÷à. Îäíî ëèøü ñàìîóáèéñòâî ïðèçûâíî ïîáëåñêèâàåò â âûøèíå.
Ìîëîäîñòü, êðàñîòà, ñèëà: êðèòåðèè ó ôèçè÷åñêîé ëþáâè ðîâíî òå æå, ÷òî ó íàöèçìà.
Ïîñëå ïÿòèäåñÿòè æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ, ýòî ïðàâäà; òîëüêî âîò êîí÷àåòñÿ îíà â ñîðîê.
Ìîæåòå ëþáèòü ñâî¸ ïðîøëîå, ìîæåòå åãî íåíàâèäåòü, íî îíî âñåãäà äîëæíî ñòîÿòü ó âàñ ïåðåä ãëàçàìè.
×òî íàñ äåéñòâèòåëüíî âîëíóåò, ýòî îáñòîÿòåëüñòâà íàøåé ñìåðòè; îáñòîÿòåëüñòâà ðîæäåíèÿ âîïðîñ âòîðîé.
ß êîíñòàòèðóþ, ÷òî ìèð óñòðîåí òàê-òî è òàê-òî, ÿ ïðèõîæó ê ýòîìó ýìïèðè÷åñêèì ïóòåì; íè÷åãî èíîãî ìíå íå äàíî.
Ñåêñóàëüíàÿ æèçíü ìóæ÷èíû äåëèòñÿ íà äâà ýòàïà: íà ïåðâîì ýòàïå îí ýÿêóëèðóåò ñëèøêîì áûñòðî, íà âòîðîì ó íåãî íå ñòîèò âîîáùå.
Íå íðàâèòñÿ ìíå ýòîò ìèð. Ðåøèòåëüíî íå íðàâèòñÿ. Îáùåñòâî, â êîòîðîì ÿ æèâó, ìíå ïðîòèâíî; îò ðåêëàìû ìåíÿ òîøíèò; îò èíôîðìàòèêè âûâîðà÷èâàåò íàèçíàíêó.
Êîãäà ëþáÿò æèçíü, òî íå ÷èòàþò. Âïðî÷åì, íå îñîáåííî õîäÿò è â êèíî. ×òî òàì íå ãîâîðè, äîñòóï ê ìèðó õóäîæåñòâåííîãî îñòàåòñÿ çà òåìè, êîãî íåìíîæêî òîøíèò.
Ðàçæèãàòü æåëàíèÿ äî ïîëíîé íåñòåðïèìîñòè, îäíîâðåìåííî ïåðåêðûâàÿ ëþáûå ïóòè äëÿ èõ îñóùåñòâëåíèÿ, âîò åäèíñòâåííûé ïðèíöèï, ëåæàùèé â îñíîâå çàïàäíîãî îáùåñòâà.
Ëþáîâü, êàê ðåäêîå, ïîçäíåå òåïëè÷íîå ðàñòåíèå, ìîæåò ðàñöâåñòè ëèøü â îñîáîì äóøåâíîì êëèìàòå, êîòîðûé òðóäíî ñîçäàòü è êîòîðûé ñîâåðøåííî íåñîâìåñòèì ñî ñâîáîäîé íðàâîâ, õàðàêòåðíîé äëÿ íàøåé ýïîõè.
È åñëè ÷åëîâåê ñìå¸òñÿ, åñëè âî âñ¸ì æèâîòíîì öàðñòâå òîëüêî îí ñïîñîáåí íà ýòó æóòêóþ äåôîðìàöèþ ëèöåâûõ ìûøö, òî ëèøü ïîòîìó, ÷òî òîëüêî îí, ïðîéäÿ åñòåñòâåííóþ ñòàäèþ æèâîòíîãî ýãîèçìà, äîñòèã âûñøåé, äüÿâîëüñêîé ñòàäèè æåñòîêîñòè.
ß ëó÷øå, ÷åì êîãäà-ëèáî, ñîçíàâàë, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî íå çàñëóæèâàëî æèçíè, ÷òî âûìèðàíèå ýòîãî âèäà ñî âñåõ òî÷åê çðåíèÿ áëàãàÿ âåñòü; è âñ¸ æå ýòè ðàçðîçíåííûå, èñòëåâàþùèå ðåëèêòû âíóøàëè êàêîå-òî ñêîðáíîå ÷óâñòâî.
Âìåñòå ñ ýðîòèêîé ïî÷òè ñðàçó èñ÷åçàåò è íåæíîñòü. íå áûâàåò íèêàêèõ íåïîðî÷íûõ ñâÿçåé è âîçâûøåííûõ ñîþçîâ äóø, íè÷åãî äàæå îòäàëåííî ïîõîæåãî. Êîãäà óõîäèò ôèçè÷åñêàÿ ëþáîâü, óõîäèò âñ¸; âÿëàÿ, íåãëóáîêàÿ äîñàäà çàïîëíÿåò îäíîîáðàçíóþ ÷åðåäó äíåé.
Íè îäíà ýïîõà, íè îäíà öèâèëèçàöèÿ íå ñîçäàâàëà ëþäåé, â äóøå êîòîðûõ áûëî áû ñòîëüêî ãîðå÷è.  ýòîì ñìûñëå ìû æèâ¸ì â óíèêàëüíîå âðåìÿ. Åñëè áû íàäî áûëî âûðàçèòü äóõîâíîå ñîñòîÿíèå ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà îäíèì-åäèíñòâåííûì ñëîâîì, ÿ, íåñîìíåííî, âûáðàë áû ñëîâî “ãîðå÷ü”.
Ìû äîëæíû áûëè áûòü ñ÷àñòëèâû, êàê ïîñëóøíûå äåòè: äëÿ ñ÷àñòüÿ òðåáîâàëîñü ëèøü ñîáëþäåíèå íåñëîæíûõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñíîñòü, à òàêæå îòñóòñòâèå áîëè è ðèñêà; íî ñ÷àñòüå íå ïðèøëî, è óðàâíîâåøåííîñòü ïðåâðàòèëàñü â áåçó÷àñòíîñòü.
Ãðóñòíàÿ âåùü êðóøåíèå öèâèëèçàöèè, ãðóñòíî âèäåòü, êàê òîíóò å¸ ëó÷øèå óìû: ïîíà÷àëó ÷óâñòâóåøü ñåáÿ â æèçíè íå ñëèøêîì óþòíî, à ïîä êîíåö ìå÷òàåøü îá èñëàìèñòñêîé ðåñïóáëèêå. Íó, èëè, ñêàæåì, íåìíîãî ãðóñòíàÿ áåçóñëîâíî, áûâàþò âåùè è ïîãðóñòíåå.
Óãëóáëÿéòåñü â òåìû, î êîòîðûõ ëþäè íå õîòÿò ñëûøàòü. Ïîêàçûâàéòå èçíàíêó æèçíè. Íàïèðàéòå íà áîëåçíü, àãîíèþ, óðîäñòâî. Íàñòîé÷èâî ãîâîðèòå î ñìåðòè, î çàáâåíèè. Î ðåâíîñòè, ðàâíîäóøèè, ôðóñòðàöèè, îòñóòñòâèè ëþáâè. Áóäüòå îòâðàòèòåëüíû, è âû áóäåòå ïðàâäèâû.
×òèòå ôèëîñîôîâ, íî íå ïîäðàæàéòå èì; âàø ïóòü, óâû, èíîé. Îí íåîòäåëèì îò íåâðîçà. Ïóòè ïîýçèè è íåâðîçà ïåðåñåêàþòñÿ è ÷àùå âñåãî íà ïîñëåäíåì ýòàïå ñëèâàþòñÿ ïîýòè÷åñêàÿ ñòðóÿ ïî÷òè íåìèíóåìî ðàñòâîðÿåòñÿ â êðîâàâîì ïîòîêå íåâðîçà. Íî âûáîðà ó âàñ íåò. Äðóãîé äîðîãè òîæå.
Èñëàì ìîã çàðîäèòüñÿ ëèøü â áåññìûñëåííîé ïóñòûíå ó ÷óìàçûõ áåäóèíîâ, êîòîðûå òîëüêî è óìåëè, ÷òî, èçâèíèòå ìåíÿ, âåðáëþäîâ òðàõàòü. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ìåñüå: ÷åì áëèæå ðåëèãèÿ ê ìîíîòåèçìó, òåì îíà áåñ÷åëîâå÷íåé, à èç âñåõ ðåëèãèé èìåííî èñëàì íàâÿçûâàåò ñàìûé ðàäèêàëüíûé ìîíîòåèçì. Íå óñïåâ ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò, îí çàÿâëÿåò î ñåáå ÷åðåäîé çàõâàòíè÷åñêèõ âîéí è êðîâàâûõ ïîáîèù; è ïîêà îí ñóùåñòâóåò, â ìèðå íå áóäåò ñîãëàñèÿ.
Ìèøåëü Óýëüáåê (Ìèøåëü Òîìà) – ðîäèëñÿ 26 ôåâðàëÿ 1956 ãîäà íà îñòðîâå Ðåþíüîí, âëàäåíèè Ôðàíöèè â Èíäèéñêîì îêåàíå. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, ïîýò. Ëàóðåàò ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè «Ãðàí ïðè» ïî ëèòåðàòóðå (1998). Îäèí èç ñàìûõ ÷èòàåìûõ â ìèðå ôðàíöóçñêèõ àâòîðîâ. Àâòîð ðîìàíîâ- «Ðàñøèðåíèå ïðîñòðàíñòâà áîðüáû», «Ýëåìåíòàðíûå ÷àñòèöû», «Ëàíñàðîòå», «Ïëàòôîðìà», «Êàðòà è òåððèòîðèÿ» è äð.
https://aphorism-citation.ru/index/0-154
Äðóãèå ñòàòüè â ëèòåðàòóðíîì äíåâíèêå:
- 31.03.2014. Ñ÷àñòüÿ áîÿòüñÿ íå íàäî åãî íåò.
- 30.03.2014. ***
- 29.03.2014. ***
- 25.03.2014. Èñïîëíåíèå æåëàíèé
- 07.03.2014. 10 ëþáèìûõ ñòèõîòâîðåíèé
- 05.03.2014. Þçåê è Ìàãäà
Источник
Мишель Уэльбек (фр. Michel Houellebecq, настоящая фамилия Тома, фр. Thomas; род. в 1958) — французский прозаик и поэт.
Возможность острова
Что нас действительно волнует, это обстоятельства нашей смерти; обстоятельства рождения — вопрос второй. |
После пятидесяти жизнь только начинается, это правда; только вот кончается она в сорок. |
Ты знаешь, в каком журнале я работаю: мы пытаемся создать ненастоящее, легковесное человечество, которое уже никогда не будет понимать ни серьёзных вещей, ни юмора, и вся жизнь которого, до самой смерти, уйдёт на отчаянные поиски fun и секса; это поколение вечных kids. |
И если человек смеётся, если во всём животном царстве только он способен на эту жуткую деформацию лицевых мышц, то лишь потому, что только он, пройдя естественную стадию животного эгоизма, достиг высшей, дьявольской стадии жестокости. |
Где-то в глубине моей души жил ужас, самый настоящий ужас перед той непрекращающейся голгофой, какой является человеческое бытие. Ведь если человеческий детёныш, единственный во всём животном царстве, тут же заявляет о своём присутствии в мире беспрерывными воплями боли, то это значит, что ему действительно больно, невыносимо больно. То ли кожа, лишившись волосяного покрова, оказалась слишком чувствительной к перепадам температур, оставаясь по-прежнему уязвимой для паразитов; то ли всё дело в ненормальной нервной возбудимости, каком-то конструктивном дефекте. Во всяком случае, любому незаинтересованному наблюдателю ясно, что человек не может быть счастлив, что он ни в коей мере не создан для счастья, что единственный возможный его удел — сеять вокруг себя страдание, делать существование других таким же невыносимым, как и его собственное; и обычно первыми его жертвами становятся именно родители. |
Одиночество вдвоём — добровольный ад. |
Молодость, красота, сила: критерии у физической любви ровно те же, что у нацизма. |
Разжигать желания до полной нестерпимости, одновременно перекрывая любые пути для их осуществления, — вот единственный принцип, лежащий в основе западного общества. |
Юморист, как и революционер, принимает вызов беспощадного мира и отвечает ему ещё большей беспощадностью. Однако в результате его действий мир не изменяется, а просто становится чуть более приемлемым, ибо насилие, необходимое для всякого революционного действия, трансформируется в смех; заодно это приносит ещё и немалые бабки. |
Сексуальная жизнь мужчины делится на два этапа: на первом этапе он эякулирует слишком быстро, на втором у него не стоит вообще. |
Разница в возрасте — последнее табу, единственная граница, тем более непреодолимая, что больше никаких границ не осталось, она заменила их все. В сегодняшнем мире можно заниматься групповым сексом, быть би- и транссексуалом, зоофилом, садомазохистом, но воспрещается быть старым. |
Грустная вещь — крушение цивилизации, грустно видеть, как тонут её лучшие умы: поначалу чувствуешь себя в жизни не слишком уютно, а под конец мечтаешь об исламистской республике. Ну, или, скажем, немного грустная — безусловно, бывают вещи и погрустнее. |
Всему есть пределы и какой бы сопротивляемостью ни обладал каждый из нас, в итоге все мы умираем от любви, вернее, от недостатка любви — в конечном итоге это вещь смертельная. |
Завершающий этап любой жизни отчасти сродни генеральной уборке; уже не думаешь ввязываться в какой-то новый проект, просто приводишь в порядок текущие дела. Всё, что не успел прежде попробовать в жизни — даже если это совсем пустячная вещь, вроде приготовления майонеза или игры в шахматы, — становится постепенно недосягаемым навсегда, желание пережить, испытать что-то новое начисто пропадает. |
Мы должны были быть счастливы, как послушные дети: для счастья требовалось лишь соблюдение несложных процедур, обеспечивающих безопасность, а также отсутствие боли и риска; но счастье не пришло, и уравновешенность превратилась в безучастность. |
Я лучше, чем когда-либо, сознавал, что человечество не заслуживало жизни, что вымирание этого вида — со всех точек зрения благая весть; и всё же эти разрозненные, истлевающие реликты внушали какое-то скорбное чувство. |
Жизнь диких животных, целиком пребывающих во власти природы, представляла собой сплошную боль с редкими внезапными моментами разрядки, блаженного отупения, связанного с удовлетворением биологических потребностей — пищевых или сексуальных. Жизнь человечества в общем проходила примерно так же: под знаком страдания, с отдельными, всегда слишком краткими моментами удовольствия, вызванного реализацией осознаваемой потребности, которая у людей превратилась в желание. |
Г. Ф. Лавкрафт: Против человечества, против прогресса
Когда любят жизнь, то не читают. Впрочем, не особенно ходят и в кино. Что там не говори, доступ к миру художественного остается за теми, кого немножко тошнит. |
На пороге растерянности
Зато здесь мы сумеем понять, что у нас не просто рыночная экономика, а рыночное общество, то есть такая цивилизация, при которой вся совокупность человеческих взаимоотношений, а равным образом и вся совокупность отношений человека с миром подчинены подсчету, учитывающему такие категории, как внешняя привлекательность, новизна, соотношение цены и качества. |
Оставаться живым
Вам не грозит счесть страдание целью, к которой надо стремиться. Страдание есть, следовательно, быть целью не может. |
Прочувствовать до конца всю беспредельность отсутствия любви. Культивировать ненависть к самому себе. Ненависть к себе, презрение к другим. Ненависть к другим, презрение к себе. Все перемешать. Обобщить. В любых ситуациях заранее считать себя проигравшим. Мир как дискотека. Накапливать разочарования, чем больше, тем лучше. Научиться быть поэтом значит разучиться жить. |
Можете любить своё прошлое, можете его ненавидеть, но оно всегда должно стоять у вас перед глазами. |
Мёртвый поэт писать не может, отсюда необходимость оставаться живым. |
Счастья бояться не надо: его нет. |
Чтите философов, но не подражайте им; ваш путь, увы, иной. Он неотделим от невроза. Пути поэзии и невроза пересекаются и чаще всего на последнем этапе сливаются — поэтическая струя почти неминуемо растворяется в кровавом потоке невроза. Но выбора у вас нет. Другой дороги тоже. |
Общество, в котором вы живете, имеет целью вас уничтожить. Вы готовы с ним сразиться. В качестве оружия оно использует безразличие. Вы не можете позволить себе того же. Следовательно, нападайте! |
Углубляйтесь в темы, о которых люди не хотят слышать. Показывайте изнанку жизни. Напирайте на болезнь, агонию, уродство. Настойчиво говорите о смерти, о забвении. О ревности, равнодушии, фрустрации, отсутствии любви. Будьте отвратительны, и вы будете правдивы. |
Платформа
Ислам мог зародиться лишь в бессмысленной пустыне у чумазых бедуинов, которые только и умели, что, извините меня, верблюдов трахать. Обратите внимание, месье: чем ближе религия к монотеизму, тем она бесчеловечней, а из всех религий именно ислам навязывает самый радикальный монотеизм. Не успев появиться на свет, он заявляет о себе чередой захватнических войн и кровавых побоищ; и пока он существует, в мире не будет согласия. |
Расширение пространства борьбы
На наших глазах мир обретает всё большее единообразие; в жилых помещениях появляется новая аппаратура. А человеческие отношения постепенно становятся невозможными, что весьма способствует уменьшению количества историй и происшествий, которые в сумме и составляют чью-то жизнь. И мало-помалу перед нами возникает лик Смерти во всём её великолепии. Третье тысячелетие обещает быть чудесным. |
Так или иначе, в наше время люди вообще редко встречаются снова, даже в том случае, если когда-то почувствовали расположение к друг другу с первого взгляда. Бывает, завязывается оживлённый разговор на темы, далёкие от повседневности; порой встреча заканчивается плотским соитием. Конечно, при такой встрече обмениваются телефонами; но потом, как правило, никто никому не звонит. А если всё-таки звонит, то при новой встрече радость быстро сменяется разочарованием. Поверьте мне, я знаю жизнь; прошлое забыто и заперто на замок. |
Я так мало прожил, что склонен воображать, будто смерть придёт не скоро; трудно представить себе, что человеческая жизнь сведётся к такой малости; и почему-то хочется думать, будто рано или поздно что-нибудь произойдёт. Это большая ошибка. Жизнь вполне может быть пустой и вместе с тем короткой. Дни уныло текут один за другим, не оставляя ни следа, ни воспоминания; а потом вдруг останавливаются. |
Раньше у меня иногда возникала идея, что я смог бы долгое время вести призрачную жизнь. Что скука, состояние относительно безболезненное, позволила бы мне выполнять каждодневный житейский ритуал. Ещё одна ошибка. Скуку нельзя терпеть долго; рано или поздно она перерождается в череду болезненных ощущений, в настоящую боль. Именно это со мной сейчас и стало происходить. |
Не нравится мне этот мир. Решительно не нравится. Общество, в котором я живу, мне противно; от рекламы меня тошнит; от информатики выворачивает наизнанку. |
Сексуальность — одна из систем социальной иерархии. |
Что бы там ни было, любовь существует, раз мы можем видеть её последствия. |
В нашем обществе секс — это вторая иерархия, нисколько не зависящая от иерархии денег, но не менее — если не более — безжалостная. По своим последствиям обе иерархии равнозначны. Как и ничем не сдерживаемая свобода в экономике (и по тем же причинам), сексуальная свобода приводит порой к абсолютной пауперизации. Есть люди, которые занимаются любовью каждый день; с другими это бывает пять или шесть раз в жизни, а то и вообще никогда. Есть люди, которые занимаются любовью с десятками женщин; на долю других не достаётся ни одной. Это называется «законом рынка». При экономической системе, запрещающей менять работу, каждый с большим или меньшим успехом находит себе место в жизни. При системе сексуальных отношений, запрещающей адюльтер, каждый с большим или меньшим успехом находит себе место в чьей-нибудь постели. При абсолютной экономической свободе одни наживают несметные богатства; другие прозябают в нищете. При абсолютной сексуальной свободе одни живут насыщенной, яркой половой жизнью; другие обречены на мастурбацию и одиночество. Свобода в экономике — это расширение пространства борьбы: состязание людей всех возрастов и всех классов общества. Но и сексуальная свобода — это расширение пространства борьбы, состязание людей всех возрастов и всех классов общества. |
Любовь, как редкое, позднее тепличное растение, может расцвести лишь в особом душевном климате, который трудно создать и который совершенно несовместим со свободой нравов, характерной для нашей эпохи. |
Любовь, то есть невинность, способность поддаваться иллюзии, готовность сосредоточить стремление к особям противоположного пола на одном, любимом, человеке, редко сохраняется в душе после года сексуальной распущенности, а после двух — никогда. Когда в юном возрасте сексуальные связи сменяют одна другую, человеку становятся недоступны сентиментальные, романтические отношения, и очень скоро он изнашивается, как старая тряпка, напрочь теряя способность любить. А дальше живёт, как и положено старой тряпке: время идёт, красота блекнет, в душе накапливается горечь. Начинаешь завидовать молодым, красивым, ненавидеть их. Эта ненависть, в которой никто не отваживается признаться, становится всё лютее, а потом слабеет и гаснет, как гаснет всё. И остаются только горечь и отвращение, болезнь и ожидание смерти. |
Неудача, повсюду неудача. Одно лишь самоубийство призывно поблескивает в вышине. |
Ни одна эпоха, ни одна цивилизация не создавала людей, в душе которых было бы столько горечи. В этом смысле мы живём в уникальное время. Если бы надо было выразить духовное состояние современного человека одним-единственным словом, я, несомненно, выбрал бы слово «горечь». |
Я погружаюсь в бездну. Моя кожа стала чем-то вроде границы, которую силится продавить окружающий мир. Я оторван от всего; отныне я – пленник внутри самого себя. Божественного слияния уже не произойдет; цель жизни не достигнута. Два часа пополудни. |
Элементарные частицы
Мир, не уважающий ничего кроме юности, мало-помалу пожирает человеческое существо. |
Источники цитат
Мишель Уэльбек. Г. Ф. Лавкрафт: Против человечества, против прогресса / Пер. с франц. И.Вайсбура. — Екатеринбург: У-Фактория, 2006. — 144 с.
Мишель Уэльбек. Стихи и эссе. / Пер. с франц. И.Кузнецовой // Иностранная литература, №5, 2001.
Мишель Уэльбек. Расширение пространства борьбы: Роман / Пер. с франц. Н.Кулиш. — М.: Иностранка; Б.С.Г.-ПРЕСС, 2003. — 166 с. (Иллюминатор).
Мишель Уэльбек. Платформа: Роман / Пер. с франц. И.Радченко. — М.: Иностранка, 2003. — 344 с. (За иллюминатором).
Мишель Уэльбек. Возможность острова: Роман / Пер. с франц. И.Стаф. — М.: Иностранка, 2006. — 475 с. (За иллюминатором).
Мишель Уэльбек. Элементарные частицы: Роман / Пер. с франц. И.Васюченко, Г.Зингера. — СПб.: Азбука-классика, 2010. — 384 с.
Расскажите своим друзьям:
Источник
Мишель Уэльбек
Г.Ф.Лавкрафт: против человечества, против прогресса
Предисловие
Когда я начинал писать это эссе (наверное, где-то к концу 1988 года), я находился в таком же положении, как многие десятки тысяч читателей. Обнаружив рассказы Лавкрафта в 16-летнем возрасте, я тут же ушел с головой во все его сочинения, имевшиеся по-французски[1]. Позднее — с убывающим интересом — я ознакомился с продолжателями мифа Ктулху, равно как и с авторами, с которыми Лавкрафт чувствовал близость (Дансейни, Роберт Говард, Кларк Эштон Смит). Время от времени, довольно часто, я возвращался к «старшим текстам» Лавкрафта; они продолжали иметь для меня странную притягательность, противоречащую моим остальным литературным вкусам; я абсолютно ничего не знал о его жизни.
С отступом времени мне кажется, что я написал эту книгу как своего рода первый роман. Роман с одним-единственным персонажем (самим Г. Ф. Лавкрафтом); роман с тем ограничительным требованием , что все факты, все процитированные тексты должны приводиться точно; но, в своем роде, все же роман. Первое, чем я был поражен, узнавая Лавкрафта, это его абсолютный материализм. В противоположность множеству почитателей и комментаторов, он никогда не считал свои мифы, свои теогонии, свои «древние расы» ничем кроме как чистым творением воображения. Другой источник моего большого удивления — это его маниакальный расизм. Никогда, читая его описания тварей из ночного кошмара, я бы не подумал, что пищу для них дают человеческие существа из реальности. Анализ расизма в литературе с полвека сосредоточен на Селине; случай Лавкрафта между тем более интересный и более характерный. Интеллектуальные построения, аналитический разбор вырождения и упадка играют у него роль весьма и весьма второстепенную. Творец фантастического, и один из самых великих, он с грубой прямотой возводит расизм к его первоистоку, истоку самому глубокому: страху. Его собственная жизнь может служить примером в этом отношении. Джентльмен из провинции, убежденный в превосходстве своих англосаксонских корней, к другим расам он испытывает всего лишь отстраненное пренебрежение. Время, прожитое им в бедных рабочих кварталах Нью-Йорка, все изменит. Эти инородные твари делаются конкурентами, ближними, врагами, стоящими выше его, вероятно, в области грубой силы. Тогда-то, в заходящем все дальше исступлении мазохизма и ужаса, и начинаются призывы к побоищу.
Перенос, выходит, полный. Вообще немногие из писателей, включая наиболее утвердившихся в литературе воображения, делают так мало уступок реальному. Лично я не пошел, явным образом, за Лавкрафтом в его отвращении к реализму любого вида, в его гадливом неприятии любого предмета, имеющего отношение к деньгам или сексу; но я, может, многие годы спустя извлек пользу из тех строчек, где хвалил его за то, что он «взорвал рамки традиционного повествования», систематически используя термины и научные понятия. Его оригинальность, в чем бы она ни состояла, казалась мне как никогда грандиозной. Я писал в свое время, что в Лавкрафте есть нечто такое, что «не вполне литература». Впоследствии я получил тому странное подтверждение. Во время, в которое я надписывал автографы, раз за разом ко мне подходили молодые люди и просили подписать эту книгу. Лавкрафта они обнаружили посредством игр, ролевых и компьютерных. Они его не читали и даже не собирались этого делать. Тем не менее, что любопытно, они хотели — по ту сторону литературного текста — больше узнать о самом человеке и о том, каким способом он построил свой мир.
Эта необычайная мощь создателя Вселенной, эта провидческая способность, вероятно, слишком поразили меня в свое время и помешали мне (единственное мое сожаление!) отдать должную дань стилю Лавкрафта. Стиль его письма на самом деле проявляется не только в гипертрофичности и горячке бреда; иногда у него бывает и совершенно исключительные тонкость, прозрачная глубина. Так обстоит дело, в частности, с новеллой «Тот, кто нашептывает во мраке», которую я опускаю в своем эссе и в которой встречаются абзацы, к примеру, как этот:
«Был, притом, некий странно успокоительный штрих космической красоты в гипнотизме ландшафта, где нездешне мы подымались и опускались. Время терялось позади в лабиринтах, и вокруг нас цветущими волнами распростиралась лишь стихия волшебной страны и заново обретенное очарование ушедших столетий — купы древних деревьев, луговины, не тронутые увяданьем, окаймленные яркими соцветиями осени, и далеко вразброс одна от другой темнеющие небольшие усадьбы, укромно умостившиеся среди великанских деревьев под отвесными обрывами, заросшими духовитым можжевелом и луговым мятликом. Даже солнечный свет принимал обаяние неотмирности, как если бы некая особая атмосфера или восхищенностъ окутывали всю эту область. Ничего подобного я прежде не видел, если не считать волшебных панорам, иногда составляющих дальний план у итальянских примитивистов. Содома и Леонардо провидели такие пространства, но лишь вдали и в сводчатые прозоры ренессансных аркад. Теперь мы собственной своею особой внедрялись в средоточье картины, и в той некромантии я находил, казалось, ту вещь, которую я то ли знал от рождения, то ли получил по наследству и которую я вечно и тщетно искал». Здесь мы присутствуем в момент, когда крайняя острота чувственного восприятия очень близко подходит к тому, чтобы вызвать изменение в философском восприятии мира; иначе говоря, здесь мы — в присутствии поэзии.
МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК, 1998
Часть первая
ДРУГАЯ ВСЕЛЕННАЯ
«Надо, может быть, много страдать,
чтобы оценить Лавкрафта…»
Жак БЕРЖЬЕ
Жизнь мучительна и обманна. Незачем, следовательно, писать новые реалистические романы. Насчет реальности — мы уже знаем, что это такое и не имеем особенного желания узнавать больше. Человечество как оно есть вызывает у нас не более чем умеренное любопытство. Все эти «замечания» столь изумительной остроты, эти «положения», эти анекдоты… Как только книга снова закрыта, все это с успехом утверждает нас в чувстве эдакого легкого отвращения, которое и без того насквозь пропитывает любой день из «реальной жизни».
А теперь послушаем Говарда Филлипса Лавкрафта:
«Мне так опротивело человечество и весь мир, что у меня не лежит интерес ни к чему, если только оно не содержит двух убийств на страницу, не меньше, или не толкует о несказанных ужасах из запредельных пространств».
Говард Филлипс Лавкрафт (1870—1937). «Нам нужно эффективное противоядие от реализма всех видов.»
Когда любят жизнь, то не читают. Впрочем, не особенно ходят и в кино. Что там ни говори, доступ к миру художественного остается за теми, кого немножко тошнит.
А Лавкрафта — его гораздо больше чем немножко тошнило. В 1908 году, в восемнадцатилетнем возрасте, он становится жертвой того, что диагностируют как «нервный упадок», и погружается в оцепенелый ступор, который продлится с десяток лет. В возрасте, когда его старые школьные товарищи, нетерпеливо отвернувшись от уходящего детства, окунаются в жизнь, как в чудесное и небывалое приключение, он затворяется у себя, ни с кем, кроме своей матери, не разговаривает, всякое утро отказывается вставать, всякую ночь бродит в шлафроке.
Притом он даже не пишет.
Что он делает? Может быть, он там что-то почитывает. Точно это даже неизвестно. По сути, его биографам приходится сознаваться, что знают они маловато и что, по крайней мере, между восемнадцатью и двадцатью тремя годами он, по всей видимости, не делает абсолютно ничего.
Затем мало-помалу, между 1913 и 1918 годами очень медленно положение улучшается. Мало-помалу он восстанавливает контакт с человеческим родом. Это было нелегко. В мае 1918 года он пишет Альфреду Галпину: «Я лишь наполовину живой; большая часть моих сил уходит на то, чтобы сидеть и ходить; моя нервная система в состоянии полного расстройства, и я в совершенном отупении и апатии, если только не натыкаюсь на что-нибудь, что меня особенно интересует».
Источник