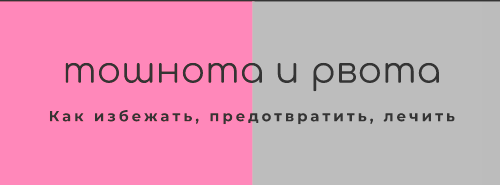Спектакль отменяется нас всех тошнит

ГЛАВНУЮ
рассказы 61
рассказы
62
рассказы
63
рассказы
64
рассказы 65
рассказы 66
рассказы
67
рассказы 68
рассказы
69
рассказы 70
рассказы 71
рассказы 72
рассказы 73
рассказы 74
рассказы 75
рассказы 76
рассказы 77
рассказы 78
рассказы 79
рассказы 80
НА
ГЛАВНУЮ
лучшие
рассказы Хармса
хармс 10
хармс 20
хармс 30
хармс 40
хармс 50
хармс 60
хармс 70
хармс 80
хармс 90
хармс 100
анекдотики
проза Хармса:
1 2 3 4
рассказы Зощенко:
20 40
60
80 100
120
140 160 180
200
220
240 260 280 300
320
340 360
380 400
рассказы Аверченко
рассказы Тэффи
сборник 1
сборник 2
.
Суд Линча
Петров садится на коня и говорит, обращаясь к толпе, речь, о
том, что будет, если на месте, где находится общественный сад, будет
построен американский небоскреб. Толпа слушает и, видимо, соглашается.
Петров записывает что-то у себя в записной книжечке. Из толпы
выделяется человек среднего роста и спрашивает Петрова, что он записал
у себя в записной книжечке. Петров отвечает, что это касается только
его самого. Человек среднего роста наседает. Слово за слово, и
начинается распря. Толпа принимает сторону человека среднего роста, и
Петров, спасая свою жизнь, погоняет коня и скрывается за поворотом.
Толпа волнуется и, за неимением другой жертвы, хватает человека
среднего роста и отрывает ему голову. Оторванная голова катится по
мостовой и застревает в люке для водостока. Толпа, удовлетворив свои
страсти, — расходится.
Встреча
Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге
встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к
себе во свояси.
Вот, собственно, и все.
Неудачный спектакль
На сцену выходит Петраков-Горбунов, хочет что-то сказать, но икает. Его начинает рвать. Он уходит.
Выходит Притыкин.
Притыкин: Уважаемый Петраков-Горбунов должен сооб… (Его рвет, и он убегает).
Выходит Макаров.
Макаров: Егор… (Макарова рвет. Он убегает.)
Выходит Серпухов.
Серпухов: Чтобы не быть… (Его рвет, он убегает).
Выходит Курова.
Курова: Я была бы… (Ее рвет, она убегает).
Выходит маленькая девочка.
Маленькая девочка:
— Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит.
Занавес
<1934>
Тюк!
Лето, письменный стол. Направо дверь. На столе картина. На
картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган. Ольга Петровна
колет дрова. При каждом ударе с носа Ольги Петровны соскакивает пенснэ.
Евдоким Осипович сидит в креслах и курит.
Ольга Петровна (ударяет колуном по полену, которое, однако, нисколько не раскалывается).
Евдоким Осипович: Тюк!
Ольга Петровна (надевая пенснэ, бьет по полену).
Евдоким Осипович: Тюк!
Ольга Петровна (надевая пенснэ, бьет по полену).
Евдоким Осипович: Тюк!
Ольга Петровна (надевая пенснэ, бьет по полену).
Евдоким Осипович: Тюк!
Ольга Петровна (надевая пенснэ): Евдоким Осипович! Я вас прошу, не говорите этого слова «тюк».
Евдоким Осипович: Хорошо, хорошо.
Ольга Петровна (ударяет колуном по полену).
Евдоким Осипович: Тюк!
Ольга Петровна (надевая пенснэ): Евдоким Осипович! Вы обещали мне не говорить этого слова «тюк».
Евдоким Осипович: Хорошо, хорошо, Ольга Петровна! Больше не буду.
Ольга Петровна (ударяет колуном по полену).
Евдоким Осипович: Тюк!
Ольга Петровна (надевая пенснэ): Это безобразие! Взрослый пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы!
Евдоким Осипович: Ольга Петровна! Вы можете спокойно продолжать вашу работу. Я больше мешать не буду.
Ольга Петровна: Ну я прошу вас, я очень прошу вас: дайте мне расколоть хотя бы это полено.
Евдоким Осипович: Колите, конечно, колите!
Ольга Петровна (ударяет колуном по полену).
Евдоким Осипович. Тюк!
Ольга Петровна роняет колун, открывает рот, но ничего не может
сказать. Евдоким Осипович встает с кресел, оглядывает Ольгу Петровну с
головы до ног и медленно уходит.
Ольга Петровна стоит неподвижно с открытым ртом и смотрит на удаляющегося Евдокима Осиповича.
Занавес медленно опускается.
<1933>
…………………..
Даниил
Хармс
.
смешная литература,
юмор чёрный.
Источник
Валерия Гай Германика сыграла одну из главных ролей в фильме “Энтропия”
Фото: Евгения ГУСЕВА
У Хармса есть гениальный рассказ под названием “Неудачный спектакль”, в котором на сцену постоянно кто-то выходит, икает, тошнит и уходит за кулисы. А заканчивается все тем, что маленькая девочка говорит: “Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит!”.
Жалко, что на премьере фильма “Энтропия” не нашлось ни одной маленькой или большой девочки, которая бы прекратила адское действо, царившее на сцене и в зале. Мы уже писали об этом фильме режиссера Марии Саакян, где главные роли сыграли Ксения Собчак, Валерия Гай Германика и божий человек, модель и экс-судья в “Топ-модели по-русски”, Данила Поляков.
Собчак благоразумно от премьеры откосила, оставив отдуваться своих коллег по съемочной площадке. Но и без нее кинотеатр “35 мм”, где проходил показ, не покидало безумие. Поляков, как настоящий защитник отечества, прибыл на премьеру в платье и затейливо подкрашенными красным бородой и глазами. Гай Германика также отнеслась к премьере серьезно – накрутила волосы, наклеила ресницы, нарисовала шикарные стрелки, а, чтобы быть еще краше, заправилась красным вином, которое кокетливо торчало из ее сумочки.
В отсутствие постоянного бойфренда режиссер приволокла двух редкой уродливости собак под мышкой. Решив разрядить обстановку, Валерия предложила нарядному Даниле раздеться. Божий человек внял приказу Германики, скинув с себя женские одежки и исподнее, стыдливо спрятав естество между ног, и горделиво поднял руки над головой. Мол, вот я каков – то ли девочка, то ли видение.
Тут же вспомнился главный убивец в “Молчании ягнят”, который развлекался таким же образом у себя дома. Московские тусовщики неоднократно видели, как Поляков проделывал подобный трюк в ночных клубах – если его хорошенечко попросить, так что делать “девочку” (так Данила называет свой акт), ему далеко не впервой, и это не было признаком сильнейшего волнения перед премьерой. Подумалось, что надо бы ему попробовать повторить этот фокус в день ВДВ в Парке Горького. Зрители обалдели, а Гай Германика и Поляков сообщили, что каждый, кто до конца фильма выйдет из зала, должен будет раздеться догола.
Первым через 10 минут выскочил сам Данила, как и обещал, в чем мама родила. За ним вышла, на удивление, одетая Германика, которая сказала своим друзьям, что если посмотрит фильм, то ее стошнит. И вернулась только на запланированное общение со зрителями. Которых, к слову сказать, в зале осталось немного – журналисты и гости картины под предлогом “сходить в туалет”, чинно отходили три шага от зрительного зала, а затем пулей бежали подальше от кинотеатра – аж набойки отваливались. Общения со зрителями не получилось.
Валерия Гай Германика, видимо, с толком провела полтора часа вне кинозала, так что ноги ее не держали. Усевшись на сцене в компании двух своих собак, она в витиеватых выражениях выражала свое отношение к зрителям и “Энтропии”, прерывавшись на попить и покурить. Отчаявшись добиться от барышни адекватного ответа, из зала расползлись последние зрители.
Более уродливого действия, чем в тот вечер, представить было невозможно. О’кей, и фильм и вокругпремьерная история на сцене вполне себе вписывается в рамки современного искусства, которое живо тем, что играет на твоих нервах: если тебя адски бесит, то уже хорошо – значит, задело (так объясняют сами творцы). Но в данном случае не хватало главного – идеи. Ибо если ты уж пытаешься устраивать перформанс, то позаботься о том, чтобы в этом был какой-то смысл. Протест, или, если угодно, призыв к революции. Потому что в другом случае ты не арт-объект, а идиот с мужским “недостатком”, зажатым между ног и не модная режиссерша, такая вся “настоящая”, а просто пьяная дура.
Источник
ВЫВАЛИВАЮЩИЕСЯ СТАРУХИ ПУШКИН И ГОГОЛЬ СОН ЧЕТЫРЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ТОГО, КАК НОВАЯ ИДЕЯ ОГОРАШИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА, К НЕЙ МАКАРОВ И ПЕТЕРСЕН НЕУДАЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПУШКИНА |
Источник
30 декабря (по новому стилю) 1905 года родился Даниил Хармс. Через 36 лет, во время Блокады, умер в неотапливаемой психушке. Хармс говорил: «Прав тот, кому Бог подарил жизнь как совершенный подарок».
Зато о нем говорили, что если бы Даниил Иванович Хармс (по рождению Ювачёв) решил отпраздновать свое столетие, он бы его отпраздновал, сидя …на шкафу.
Почему на шкафу? Потому что не в кухне на табуретке и не в комнате на диване. Потому что верхом на гардеробе – парадоксальней. Оттуда видней, что вокруг происходит. Или происходило. Или собирается произойти. И в нынешнюю некруглую годовщину Хармсу было бы тоже видней.
Даниил Иванович, безусловно, бессмертен. Однако физически – так, чтобы шумный юбилей закатить, он давно уже отпраздновать ничего не может: умер молодым, в 36, в ледяной блокадной тюремной психиатрической больнице, в 42-м… Туда отправила его советская гэбуха, чтимая у нас кое-кем и до сих пор.
Здание тюремной больницы, где умер Хармс.
Ну так что ж… Зато мы возьмем и отпразднуем какой-нибудь некруглый его юбилей. И довольно-таки широко и в чем-то даже театрально. Мы – это все те, кто любит и чтит выдающегося отечественного поэта и писателя. Необычайно остроумного мастера слова, который однажды сказал: «Прав тот, кому Бог подарил жизнь как совершенный подарок».
И рассказал, как происходило вручение этого подарка:
«Теперь я расскажу, как я родился и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я родился однажды. Произошло это вот так: мой папа женился на моей маме в 1902 году, но меня мои родители произвели на свет в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребёнок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка».
Даниил Хармс размывал границы между игрой воображения и изображением при помощи слов, играя ими. Он, наверное, потому и придумал (и одновременно не придумал), что сразу после рождения его сперва хотели запихнуть туда «обратно», в тесноту дородового заключения, то есть и вправду сразу по рождении поместили в какой-то инкубатор, где он провел свои первые четыре месяца жизни, ибо, по его словам, «родился на четыре месяца раньше срока».
Он был точен в предсказании своей творческой особенности, которую проявил в первых детских письмах (корректоры, орфографию не трогать!):
«Милый Папа. Я узнал, что ты болен и попрасил Маму чтобы она тебе послала коробку конфет, от кашля и другие лекарства. Ты их принимай как закашлишь. Дети здоровы. Я и Лиза были больны но типерь тоже здоровы. У меня маленький кашель. Мама тоже ничего».
Обложки детских книг Хармса
И вот это детское послание уже созвучно с его произведениями, которые он, став взрослым, писал для детей и публиковал в таких детских журналах, как «Чиж и Еж»:
«Иван Торопышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, провалился в болото, а пудель в реке утонул, как топор».
Он и для взрослых столь же «приятно» писал. Вспомним его единственную и относительно большую повесть «Старуха», его многочисленные короткие рассказы и небольшие драматические сценки, в одной из которых оба наших классика, Пушкин и Гоголь, спотыкаются друг об друга со словами: «Об Пушкина!», «Об Гоголя!». А в финале другой его пьесы, «Неудачный спектакль», маленькая девочка выходит на сцену и говорит:
«Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит!»
Из такого же, самого известного, на слуху его рассказы «Вываливающиеся старухи», «Случаи», «Оптический обман» и другие произведения, не очень большие, короткие, слов, «знаков», как сейчас говорят, там совсем мало. Но не следует пересчитывать слова. Достаточно прочитать, к примеру, рассказ «Столяр Кушаков», завершающийся тем, что «Столяр Кушаков постоял на лестнице, плюнул и пошел на улицу». О чем это? Что, дескать, с одной стороны, плевать и ходить по улице умеет не только столяр Кушаков, а с другой…с другой… Как тут «анализировать»? Здесь всякий литературовед, хоть какой умный, ноги себе сломает: начнет было, да и переломает, господи прости. Лучше и не браться, смысла не имеет.
Остается «только понюхать». Тем более что «Некоторые помойки так пахнут, что за версту слышно, а другие, которые с крышкой, совершенно найти невозможно» («История», 8 января 1935).
Еще более многозначительный смысл имеет заметка Даниила Ивановича «О Пушкине». В своем сравнительном анализе творчества Александра Сергеевича он пошел значительно дальше всех исследователей творчества нашего всего:
«Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто. И Александры I и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь».
Можно ли было такой «литературоведческий анализ» публиковать на страницах советской печати? И не застрелился бы сразу после этого главред? Нет уж, такой вопрос и в богатейшем особняке Алексей Максимыча Горького на Малой Никитской улице, где и Сталин, бывало, пару рюмок коньяка мог пропустить, не мог быть задан, даже и после восьмой бутылки коньяка. Это все равно что усомниться в том, что «Даниил Иванович Хармс был самым выдающимся советским абсурдистом, но не был никогда советским знаменитым реалистом». Этой «официальной формулы» нет в дневнике Хармса от 16 октября 1933 года, сделанной в понедельник. Но тем же понедельником датирована другая запись: «Нужно ли человеку что-либо помимо жизни и искусства? Я думаю, что нет, больше не нужно ничего, сюда входит всё настоящее».
Мемориальная доска на доме Хармса
Короткий рассказ «Письмо» мастера собственных псевдонимов Хармса (Шармс, Шардамс, Школа клоунов) оказалось первым его взрослым прозаическим произведением, опубликованным в нашей «Литературной газете». На 16-й полосе, тиражом 2 миллиона экземпляров, еще при Советской власти. И при чтении его хохотала вся читающая эту самую «ЛГ» интеллигенция Советского Союза. Заканчивается «Письмо» необычайно оптимистично:
«Я сразу, как увидел твое письмо, так и решил, что ты опять женился. Ну, думаю, это хорошо, что ты опять женился и написал мне об этом письмо. Напиши мне теперь, кто твоя новая жена и как это все вышло. Передай привет твоей новой жене».
Датировано произведение автором 23 сентября 1933 года и в рукописи названия не имеет. Герои «Письма», естественно, лица, которые в СССР когда-то существовали. При полной неизвестности, кто они были такие и с какой целью, собственно, существовали. Тем не менее они философичны, грамотны, честны, невероятно глупы и ни в коей мере не могут быть причислены ни к советским, ни к постсоветским нормальным людям, которые (все и почти без исключения) имели своей целью жениться чтобы удобней было всей семьей строить для начала социализм, для продолжения коммунизм, а для конца капитализм. Если, конечно, не убьют за что-нибудь, непонятно за что.
Крупнейшие хармсоведы полагают, что «Письмо» носит все-таки автобиографический характер, а не какой-либо отвлеченный из жизни Шардамса или Школы Клоунов. Хотя вряд ли в произведениях Даниила Ивановича можно обнаружить что-либо конкретно автобиографическое. Кроме его дневника, некоторых заметок, «картинок с натуры», стихов, писем и им же написанной «Автобиографии». С другой стороны, поскольку всё, что он написал, наверняка в немалой степени отражало реалии тогдашней жизни, то парадокс тем более очевиден. Описывая в невинном вроде абсурдном пассаже («Один человек гнался за другим, тогда как тот, который убегал, в свою очередь гнался за третьим, который, не чувствуя за собой погони, просто шел быстрым шагом по мостовой») он намекает на тотальную слежку друг за другом – в спешке, бегом, чтобы успеть настучать.
Вообще нет ничего очевидней «парадокса наличия» прямой (или косвенной) связи многих произведений Хармса с жизнью живого автора как поэта и писателя. Это, таким образом, еще один «парадокс» Даниила Ивановича. Некий незабвенный абсурдизм, воссозданный им самим очень подробно и далеко не в одном варианте.
…Не один из любовных романов Даниила Ивановича был прерван им самим, но только один раз, в 1933 году, его самого оставила женщина, которая была актрисой и была хороша собой. К тому же она была молода. И ей, конечно же, хотелось всего: богатства, славы, денег, положения в обществе, счастья, семьи, квартиры, детей и ролей. Она умела плавать, носить красивые платья, белье, чулки, туфли, и, часто глядясь в зеркало, подводила брови. Она и танцевала очень хорошо. И любила Даниила Ивановича. Очень любила. Но тем не менее оставила его и уехала из тогдашнего Ленинграда в тогдашнюю Москву. А Даниил Иванович остался в Ленинграде и отреагировал на ее отъезд письмом к ней. Осенью 1933 года он ей написал: «…не то, чтобы вы стали частью того, что раньше было частью меня самого, если бы я не был сам той частицей, которая в свою очередь была частью… Простите, мысль довольно сложная…». Неизвестно, поняла ли она его, молодая красивая актриса, жаждущая жизни, писавшего ей в своей завуалированной манере, что он сам – частица огромного мира, той вселенной, куда никто не может войти, ибо она все время множится: если бы я не был сам той частицей, которая в свою очередь была частью.
Тем не менее так он ей и написал, этой немудреной женщине, которую звали Клавдия Васильевна Пугачева, которая была, повторюсь, молодой актрисой. Перед своим отъездом она сказала Даниилу Ивановичу: «Прощайте, я уезжаю в Москву и там, возможно, буду с кем-нибудь близка». Так оно ведь и получается, когда красивая молодая женщина с подведенными бровями уезжает из Ленинграда в Москву, не выдержав пошлого вызова нищеты в условиях развитОго сталинского социализма.
Опустим здесь свидетельства тех, с кем, наверное, была близка Клавдия Васильевна в Москве: не наше дело. Хармса эти свидетельства тоже мало занимали. Ведь теперь, оставшись один, он мог писать еще больше, чем в присутствии любимой женщины. Что он и начал незамедлительно делать. И написал много, очень много. Больше никто не мешал ему быть частицей огромного целого. Он работал, преодолевая удручающее безденежье и пошлейшую нужду, возникшие по причине полного отказа публиковать что-либо, сочиненное поэтом и писателем Даниилом Ивановичем Хармсом. Ибо писал он только то, что хотел, не скрывая, что от всего прочего «его просто тошнит». Он курил, любил выпить водки, ходил с трубкой в зубах, в шляпе и длинном пальто по каменному Ленинграду и открыто признавал: «Когда я вижу человека, мне хочется ударить его по морде. Так приятно бить по морде человека!» Он, естественно, острил, зная о влиянии его остроумия на окружающих: «Все вокруг завидовали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дохли от смеха».
В некоторых его произведениях той поры и в тех, что были созданы раньше и позже, слышны смешные и печальные отголоски того, что думал Даниил Иванович и о женщинах, и о любви, и обо всем на свете. А думал всегда откровенно. В его, «хармсовском», парадоксальном «смысловом и внесмысловом» смысле, жонглируя словами и фразами, персонажами и их феерическими приключениями. И выпадали старухи из окон, и какой-то рыжий и конопатый «убивал дедушку лопатой», и спотыкался Пушкин об Гоголя, а Гоголь об Пушкина, и автор сидел на шкафу, и почти все это находилось за пределами вероятного и вообразимого. Не без безжалостного отношения к героям этих произведений, их странному облику и идиотизму поведения. И подавал он это весьма емко и забавно.
Вот, например, рассказ «Лекция». Начинается он так: «Пушков сказал: – Женщина – это станок любви. И тут же получил по морде». А в рассказе «Помеха» – есть такой диалог: «– Я без панталон».- У меня очень толстые ноги, – сказала Ирина. – А в бедрах я очень широкая. – Покажите, – сказал Пронин. – Нельзя, – сказала Ирина. – Я без панталон».
…Дальнейшие и очень существенные разногласия и разночтения Хармса с Советской властью в понимании жизни, любви, труда, творчества, прозы, поэзии, будней, праздников и всего остального не позволили ему ни творить дальше, ни жить дальше. Ему не простили его словесной клоунады. Его убили за то, что он, кроме всего смешного и забавного, имел личную и нахальную дерзость быть до крайности смелым художником, который чувствовал, хотя и не без самоиронии, свое «величие и крупное мировое значение». За это его нигде не печатали, нигде не публиковали, но друзья иногда куда-нибудь звали и, как он сам рассказывает, однажды Евгений Шварц даже «пригласил меня к себе на обед».
Никогда и никого он не ставил выше себя. Вот здесь, в этом отрывке, неужели никто не заметил великой самоиронии?
«Я вот, например, не тычу всем в глаза, что обладаю, мол, колоссальным умом. У меня есть все данные считать себя великим человеком. Да, впрочем, я себя таким и считаю… Потому-то мне и обидно, и больно находиться среди людей, ниже меня поставленных по уму, и прозорливости, и таланту, и не чувствовать к себе вполне должного уважения… Почему, почему я лучше всех?»
Действительно, почему? И хотя это, выражаясь современным языком, «стёб», все не так просто: он ведь и правда был выше многих, если не всех. Потому что лучше многих понял и выразил дальнейший ход событий, что в жизни, что в литературе, хотя был как будто вне их: широкому кругу читателей Хармс стал известен поначалу «Письмом» – незадолго до бесславного конца советской власти, а затем уже, после ее конца, всем своим рукописным наследством, включая слова и выражения, а также целые строки с «намеренными орфографическими и синтаксическими ошибками».
Потому что он был один такой, Даниил Иванович Хармс, он же Ювачёв, Шармс, Шардамс и Школа Клоунов. Потому что хармсовский абсурд, в его величии – значительная, многозначительная, наконец, сверхзначительная часть нашей жизни, а может, и не часть, а вся наша жизнь, и потому мы порой говорим: «Ну прямо по Хармсу. Ну прямо по тому месту, где девочка говорит: «Нас всех тошнит». И по тому месту, где сам Хармс произносит: «На меня почему-то все глядят с удивлением. Что бы я ни сделал, все находят, что это удивительно».
…За несколько лет до своей гибели в ледяной психиатрической больнице он в одном из писем к Клавдии Васильевне, которую продолжал бесконечно любить, написал: «Когда траву мы собираем в стог, она благоухает. А человек, попав в острог, и плачет, и вздыхает, и бьется головой, и бесится, и пробует на простыне повеситься».
Говорят, что, когда его пришли арестовывать, Хармс сидел на шкафу…
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Источник